Оставьте заявку
Оставьте заявку и мы с вами свяжемся
Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности
Мы используем cookie файлы, как и большинство сайтов в интернете. Гарантируем сохранность ваших персональных данных.
Геннадий Красников: У нас остались школы, достижения, знания – все теперь зависит только от воли государства
Одна из отраслей российской промышленности, в которой вопрос импортозамещения критически важен и при этом далек от решения, — микроэлектроника. Ключевые комплектующие и материалы здесь до введения санкций последние десятилетия почти полностью закупались за рубежом. О том, возможно ли преодолеть возникший за это время технологический разрыв и если да, то как скоро, «Эксперту» рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
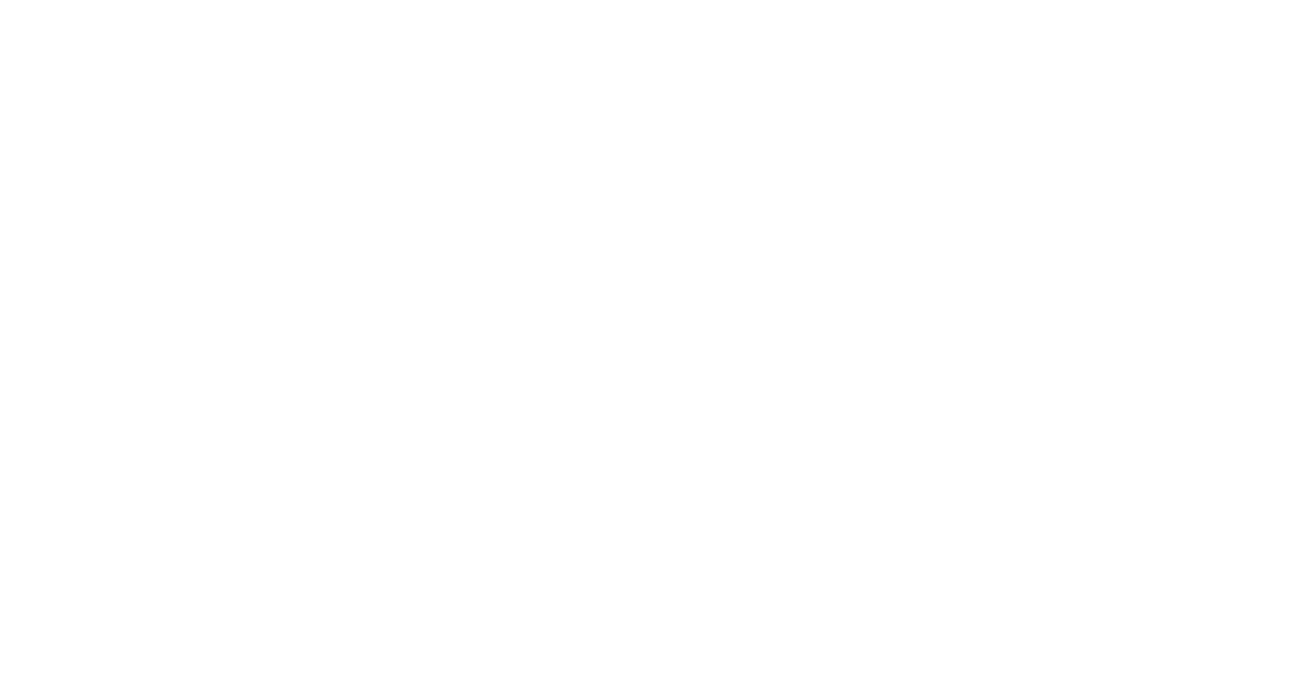
— За последние два с половиной года из-за введенных санкций российская наука, и микроэлектроника в частности, получила мощный стимул для развития — и благодаря госзаказу, и заказам от частного бизнеса. Почему нельзя было получить эти заказы раньше?
— О том, что мы идем не туда, мы говорили постоянно — это секрет Полишинеля. Потому что, как только страна говорит, что она хочет быть независимой, у нее сразу должны появиться суверенная банковская система, телекоммуникации, многое другое, не только свои электронные технологии.
К примеру, больше 15 лет назад мы говорили о том, что нам нужна радиационно стойкая элементная база для нашего космоса. В ответ нам на полном серьезе отвечали: «Нам американцы ее будут поставлять». Я в ужасе на это смотрел — почему, собственно, американцы должны это делать?
Но был такой план, что взамен мы поставим им двигатели РД-180. Конечно, это полное непонимание современной электроники. Так США получили бы возможности в лучшем случае просто отключить наши спутники, а в худшем — заставить их работать против нас. Радиационно стойкие технологии очень непростые. И это только один из примеров.
Из-за такого подхода появилась опасность отставания, что и произошло. Многие это понимали, и так в итоге и случилось.
— Есть ли направления, по которым у российской микроэлектроники отставание от глобальных лидеров уже безнадежно? Скажем, по двух-трехнанометровым технологиям?
«Безнадежное отставание» — это вообще неправильный тезис. С одной стороны, назовите мне отрасль или технологию, в которой мы были бы безоговорочно впереди всех — разве что атомную энергетику можно назвать.
С другой стороны, посмотрите на Южную Корею. Это сейчас Samsung — одна из ведущих мировых компаний, но в 1970-х годах, да и в 1990-х, они были никем. Мы производили для них тогда продукцию под брендом Samsung, но писали на ней «Made by Mikron» (Геннадий Красников с 1991 по 2016 год возглавлял «НИИ молекулярной электроники и завод „Микрон“», крупнейшего в России разработчика и экспортера микроэлектронной продукции. — «Эксперт»).
В том, что касается электронных технологий, можно посмотреть на Китай, на Тайвань — и везде мы увидим два фактора. Первый — это настрой государства по отношению к задачам, требующим решения. И второй — это создание и стимулирование рынка.
В Китае на протяжении десятилетий проводится продуманная политика по финансированию отрасли, по созданию необходимых мощностей. Ведь такие отрасли без участия государства не создаются.
Причем здесь я говорю о странах, где не было ни специалистов, ни инфраструктуры, где все за последние десятилетия было сделано с нуля. Поэтому как можно говорить, что мы отстали безнадежно? У нас остались сильные школы, достижения, знания — все зависит теперь только от воли государства решить ту или иную задачу.
— Насколько успешно решаются эти задачи?
— Есть составляющие, без которых нельзя развивать современную микроэлектронику: оборудование, исследования по созданию новых материалов, системы автоматизированного проектирования (САПР) — и в Советском Союзе у нас все это было. Были технологии по созданию особо чистых материалов, было электронное машиностроение. В свое время мы все это уничтожили, ничего же не было нужно — «нам же все привезут...». Сейчас все это приходится создавать заново.
Что касается особо чистых материалов — это очень непростая сфера. Таких технологий в достаточном количестве до сих пор нет, к примеру, в Китае.
— О том, что мы идем не туда, мы говорили постоянно — это секрет Полишинеля. Потому что, как только страна говорит, что она хочет быть независимой, у нее сразу должны появиться суверенная банковская система, телекоммуникации, многое другое, не только свои электронные технологии.
К примеру, больше 15 лет назад мы говорили о том, что нам нужна радиационно стойкая элементная база для нашего космоса. В ответ нам на полном серьезе отвечали: «Нам американцы ее будут поставлять». Я в ужасе на это смотрел — почему, собственно, американцы должны это делать?
Но был такой план, что взамен мы поставим им двигатели РД-180. Конечно, это полное непонимание современной электроники. Так США получили бы возможности в лучшем случае просто отключить наши спутники, а в худшем — заставить их работать против нас. Радиационно стойкие технологии очень непростые. И это только один из примеров.
Из-за такого подхода появилась опасность отставания, что и произошло. Многие это понимали, и так в итоге и случилось.
— Есть ли направления, по которым у российской микроэлектроники отставание от глобальных лидеров уже безнадежно? Скажем, по двух-трехнанометровым технологиям?
«Безнадежное отставание» — это вообще неправильный тезис. С одной стороны, назовите мне отрасль или технологию, в которой мы были бы безоговорочно впереди всех — разве что атомную энергетику можно назвать.
С другой стороны, посмотрите на Южную Корею. Это сейчас Samsung — одна из ведущих мировых компаний, но в 1970-х годах, да и в 1990-х, они были никем. Мы производили для них тогда продукцию под брендом Samsung, но писали на ней «Made by Mikron» (Геннадий Красников с 1991 по 2016 год возглавлял «НИИ молекулярной электроники и завод „Микрон“», крупнейшего в России разработчика и экспортера микроэлектронной продукции. — «Эксперт»).
В том, что касается электронных технологий, можно посмотреть на Китай, на Тайвань — и везде мы увидим два фактора. Первый — это настрой государства по отношению к задачам, требующим решения. И второй — это создание и стимулирование рынка.
В Китае на протяжении десятилетий проводится продуманная политика по финансированию отрасли, по созданию необходимых мощностей. Ведь такие отрасли без участия государства не создаются.
Причем здесь я говорю о странах, где не было ни специалистов, ни инфраструктуры, где все за последние десятилетия было сделано с нуля. Поэтому как можно говорить, что мы отстали безнадежно? У нас остались сильные школы, достижения, знания — все зависит теперь только от воли государства решить ту или иную задачу.
— Насколько успешно решаются эти задачи?
— Есть составляющие, без которых нельзя развивать современную микроэлектронику: оборудование, исследования по созданию новых материалов, системы автоматизированного проектирования (САПР) — и в Советском Союзе у нас все это было. Были технологии по созданию особо чистых материалов, было электронное машиностроение. В свое время мы все это уничтожили, ничего же не было нужно — «нам же все привезут...». Сейчас все это приходится создавать заново.
Что касается особо чистых материалов — это очень непростая сфера. Таких технологий в достаточном количестве до сих пор нет, к примеру, в Китае.
“
Особо чистые материалы — это сотни наименований, которые при этом критичны. Критичны потому, что невозможно создать стратегические запасы таких веществ — они все со временем разлагаются.
Так что необходимо, чтобы все это производилось постоянно.
Это же касается и электронного машиностроения. У нас ведь были и ионные имплантаторы, и фотолитографы. Сейчас многое, по сути, приходится создавать заново.
Идет игра вдолгую. Не бывает так, чтобы раз — и завтра произошло чудо. В перспективе пяти-шести лет эти усилия должны привести к качественным изменениям. Программы были запущены один-три года назад, когда наконец пришло понимание, что они нужны. Теперь требуется время, чтобы эти программы окончательно сформировались, чтобы нашлись контрагенты, все запустилось — и на это времени должно уйти достаточно много.
Это же касается и электронного машиностроения. У нас ведь были и ионные имплантаторы, и фотолитографы. Сейчас многое, по сути, приходится создавать заново.
Идет игра вдолгую. Не бывает так, чтобы раз — и завтра произошло чудо. В перспективе пяти-шести лет эти усилия должны привести к качественным изменениям. Программы были запущены один-три года назад, когда наконец пришло понимание, что они нужны. Теперь требуется время, чтобы эти программы окончательно сформировались, чтобы нашлись контрагенты, все запустилось — и на это времени должно уйти достаточно много.
— Есть ли уже что-то, чем вы можете похвастаться?
— Конечно, есть. К концу года мы должны получить фоторезистр мирового уровня. Создаются установки в области молекулярно-слоевого осаждения. Радиационно стойкие схемы с высоким уровнем защиты, которые выдерживают не только гамма-излучение, но и электромагнитный импульс. Ведутся работы в области эпитаксии (выращивания кристаллов на подложке): здесь у нас уникальные, мирового уровня установки по осаждению нитридов на кремниевые пластины.
Это очень упрощенное представление — мерять все только топологическим размером. Ведь два-три нанометра — это не технологии, это возможности. А в каждой технологии есть свои лидеры и свои задачи. Например, для технологии embedded flash (встроенная в микрочип флеш-память) на сегодняшний день минимальный используемый топологический размер составляет 32 нанометра, для радиационно стойкой технологии «кремний на изоляторе» размер составляет 65–90 нанометров. Все зависит от того, какие задачи нужно решать.
— Действительно ли российская наука разделяет лидирующие в мире позиции в смежных, не связанных с микроэлектроникой областях, но близких ей по потенциальным сферам применения, например в квантовых и нейроморфных вычислениях, фотонике? И когда стоит ждать, что они окажут какое-то влияние на повседневную жизнь?
— Да, здесь мы остаемся на мировом уровне. В квантовых вычислениях есть много платформ: фотонные, ионные, на нейтральных атомах, другие. По ионным платформам хорошо продвигается коллектив ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН.
Что касается того, когда квантовые технологии изменят нашу обыденную жизнь, то это разговор непростой. В силу разных причин здесь были очень завышенные ожидания. Мы все эти технологии отслеживаем, здесь есть свои «дорожные карты», причем во всем мире. Они пишутся каждые 2-3 года на 15 лет вперед. Уже 50 лет прошло с тех пор, как Гордон Мур, основатель Intel, сформулировал необходимость таких «карт».
Эти «дорожные карты» пишутся с опережением, и, например, в отличие от микроэлектроники, в области квантовых вычислений «дорожные карты» еще ни разу не выполнялись. Их даже перестали публиковать, поскольку это стало формировать определенное недоверие к исследователям. Поэтому говорить, что в области квантовых технологий что-то прямо сейчас перевернется, — это очень смелые заявления.
Фотоника, нейроморфные вычисления — да, все это тоже развивается. Развивается и микроэлектроника, есть подходы к созданию электроники на новых материалах: для силовой электроники на карбиде кремния, на алмазных пленках — спектр исследований на самом деле очень большой.
— Насколько к такого рода исследованиям сегодня проявляет интерес российский бизнес?
— Бизнес больше не может просто ходить и выбирать лучшие в мире технологии. Теперь он должен вкладываться в собственное развитие. Это касается всего: химии, наук о материалах, генетики, медицины. И электронных технологий: электротранспорта, силовой электроники. Мы видим, что бизнес сейчас смотрит по очень широкому спектру, куда вкладывать свои средства.
— Конечно, есть. К концу года мы должны получить фоторезистр мирового уровня. Создаются установки в области молекулярно-слоевого осаждения. Радиационно стойкие схемы с высоким уровнем защиты, которые выдерживают не только гамма-излучение, но и электромагнитный импульс. Ведутся работы в области эпитаксии (выращивания кристаллов на подложке): здесь у нас уникальные, мирового уровня установки по осаждению нитридов на кремниевые пластины.
Это очень упрощенное представление — мерять все только топологическим размером. Ведь два-три нанометра — это не технологии, это возможности. А в каждой технологии есть свои лидеры и свои задачи. Например, для технологии embedded flash (встроенная в микрочип флеш-память) на сегодняшний день минимальный используемый топологический размер составляет 32 нанометра, для радиационно стойкой технологии «кремний на изоляторе» размер составляет 65–90 нанометров. Все зависит от того, какие задачи нужно решать.
— Действительно ли российская наука разделяет лидирующие в мире позиции в смежных, не связанных с микроэлектроникой областях, но близких ей по потенциальным сферам применения, например в квантовых и нейроморфных вычислениях, фотонике? И когда стоит ждать, что они окажут какое-то влияние на повседневную жизнь?
— Да, здесь мы остаемся на мировом уровне. В квантовых вычислениях есть много платформ: фотонные, ионные, на нейтральных атомах, другие. По ионным платформам хорошо продвигается коллектив ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН.
Что касается того, когда квантовые технологии изменят нашу обыденную жизнь, то это разговор непростой. В силу разных причин здесь были очень завышенные ожидания. Мы все эти технологии отслеживаем, здесь есть свои «дорожные карты», причем во всем мире. Они пишутся каждые 2-3 года на 15 лет вперед. Уже 50 лет прошло с тех пор, как Гордон Мур, основатель Intel, сформулировал необходимость таких «карт».
Эти «дорожные карты» пишутся с опережением, и, например, в отличие от микроэлектроники, в области квантовых вычислений «дорожные карты» еще ни разу не выполнялись. Их даже перестали публиковать, поскольку это стало формировать определенное недоверие к исследователям. Поэтому говорить, что в области квантовых технологий что-то прямо сейчас перевернется, — это очень смелые заявления.
Фотоника, нейроморфные вычисления — да, все это тоже развивается. Развивается и микроэлектроника, есть подходы к созданию электроники на новых материалах: для силовой электроники на карбиде кремния, на алмазных пленках — спектр исследований на самом деле очень большой.
— Насколько к такого рода исследованиям сегодня проявляет интерес российский бизнес?
— Бизнес больше не может просто ходить и выбирать лучшие в мире технологии. Теперь он должен вкладываться в собственное развитие. Это касается всего: химии, наук о материалах, генетики, медицины. И электронных технологий: электротранспорта, силовой электроники. Мы видим, что бизнес сейчас смотрит по очень широкому спектру, куда вкладывать свои средства.
— Способны ли существующие производства обеспечить текущие и будущие потребности российской микроэлектроники или должны строиться новые?
— Конечно, должны появляться новые. Например, каждая новая «чистая комната» закладывается под определенный топологический размер, а с его уменьшением возрастают требования и по оборудованию, по энергоносителям, материалам. Требования по чистоте ужесточаются: сейчас важно, чтобы в «чистых комнатах» не просто не было пылинок — это уже давно пройденный этап. Борьба идет уже с молекулярными загрязнениями: нужно обеспечить чистоту на уровне наличия не более 10−12 посторонних частиц. Поэтому, конечно, при совершенствовании технологий необходимо развивать всю инфраструктуру.
— Как сейчас в решении стоящих перед российской микроэлектроникой задач делятся полномочия между РАН, правительством, промышленностью и, возможно, бизнесом?
— За прикладные исследования отвечают ведомства. Но если речь, к примеру, идет опять же об особо чистых материалах, то академия активно участвует в их разработке. Или электронное машиностроение: здесь принимают участие такие институты, как Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН, Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН. И в области САПР, и в создании новых машин, расчетах новых физических моделей мы принимаем активное участие, но в фундаментальных исследованиях.
— А что произойдет, если существующие санкции вдруг отменят и «супермаркет» откроется заново?
— На самом деле, «супермаркет» всегда был иллюзией. Не буду говорить про Советский Союз, для которого было жесткое ограничение в виде КОКОМ (организация, созданная в 1949 году по инициативе США для ограничения экспорта новейших технологий в соцстраны. — «Эксперт»).
— Конечно, должны появляться новые. Например, каждая новая «чистая комната» закладывается под определенный топологический размер, а с его уменьшением возрастают требования и по оборудованию, по энергоносителям, материалам. Требования по чистоте ужесточаются: сейчас важно, чтобы в «чистых комнатах» не просто не было пылинок — это уже давно пройденный этап. Борьба идет уже с молекулярными загрязнениями: нужно обеспечить чистоту на уровне наличия не более 10−12 посторонних частиц. Поэтому, конечно, при совершенствовании технологий необходимо развивать всю инфраструктуру.
— Как сейчас в решении стоящих перед российской микроэлектроникой задач делятся полномочия между РАН, правительством, промышленностью и, возможно, бизнесом?
— За прикладные исследования отвечают ведомства. Но если речь, к примеру, идет опять же об особо чистых материалах, то академия активно участвует в их разработке. Или электронное машиностроение: здесь принимают участие такие институты, как Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН, Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН. И в области САПР, и в создании новых машин, расчетах новых физических моделей мы принимаем активное участие, но в фундаментальных исследованиях.
— А что произойдет, если существующие санкции вдруг отменят и «супермаркет» откроется заново?
— На самом деле, «супермаркет» всегда был иллюзией. Не буду говорить про Советский Союз, для которого было жесткое ограничение в виде КОКОМ (организация, созданная в 1949 году по инициативе США для ограничения экспорта новейших технологий в соцстраны. — «Эксперт»).
“
Даже 20 лет назад, в очень светлые, как сейчас кажется, времена, по каждой единице оборудования мы в «Микроне» должны были в договорах все согласовывать с Госдепартаментом США, доказывать, что это проект исключительно гражданского назначения.
Просто кому-то хотелось, чтобы нам казалось, что теперь мы живем по-другому. А всем специалистам, в частности в области микроэлектроники, и тогда было понятно. Все видят, что если страна обладает такими технологиями, то она становится независимой.
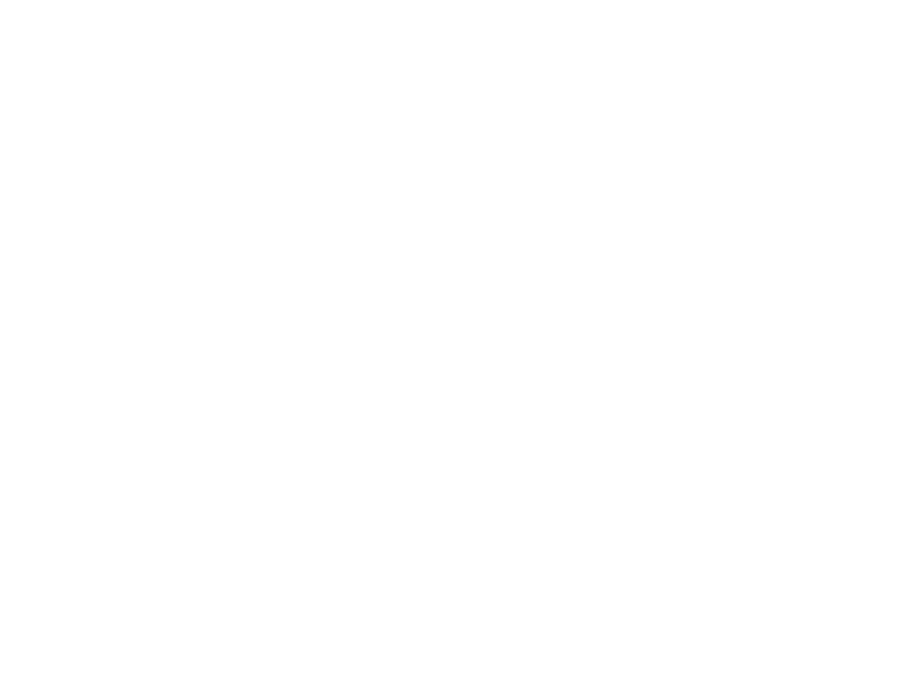
«У нас остались школы, достижения, знания — все теперь зависит только от воли государства» | Эксперт (expert.ru)
Беседовал Юрий Яроцкий, «Эксперт»
Беседовал Юрий Яроцкий, «Эксперт»
***
Организаторами форума «Микроэлектроника 2024» выступают АО «НИИМЭ» и АО «НИИМА «Прогресс» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства науки и образования Российской Федерации, Группы компаний «Элемент». Генеральные партнеры – Сбер, Фонд перспективных исследований (ФПИ), ООО «ХайТэк». Атомный партнер – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Технологический партнер – АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (торговая марка Kraftway). Инновационные партнеры – АО «ОКБ «Астрон», ООО «Лазерный центр», Компания Т8, НИУ МИЭТ, Компания OpenYard. Партнер Научной конференции – ООО «НМ-Тех». Образовательный партнер – Университет «Сириус». Партнеры Школы молодых учёных – Группа компаний «Элемент», Сбер, Компания YADRO. Спортивный партнер – АО «Микрон». Партнеры – АО «АИСА ИТ-Сервис», ООО «ФОРМ», ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», Т1 Интеграция, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, ООО «НПП «Итэлма», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО НИИТМ, Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления, Альянс RISC-V, Консорциум «Доверенные и экстремальные электронные системы» (НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС»), ООО «Остек-ЭК», ООО «ПЛАНАР». Партнер воды – АО «Сигналтек». Партнер детской программы – НИУ МИЭТ. Партнер сувенирной продукции – INWAVE. Генеральный информационный партнер – АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА», Генеральное информационное агентство «ТАСС». Оператор Форума – Агентство деловых коммуникаций «ПрофКонференции».
Подписывайтесь на официальный телеграм-канал форума «Микроэлектроника» и социальную сеть «В контакте»
Организаторами форума «Микроэлектроника 2024» выступают АО «НИИМЭ» и АО «НИИМА «Прогресс» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства науки и образования Российской Федерации, Группы компаний «Элемент». Генеральные партнеры – Сбер, Фонд перспективных исследований (ФПИ), ООО «ХайТэк». Атомный партнер – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Технологический партнер – АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (торговая марка Kraftway). Инновационные партнеры – АО «ОКБ «Астрон», ООО «Лазерный центр», Компания Т8, НИУ МИЭТ, Компания OpenYard. Партнер Научной конференции – ООО «НМ-Тех». Образовательный партнер – Университет «Сириус». Партнеры Школы молодых учёных – Группа компаний «Элемент», Сбер, Компания YADRO. Спортивный партнер – АО «Микрон». Партнеры – АО «АИСА ИТ-Сервис», ООО «ФОРМ», ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», Т1 Интеграция, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, ООО «НПП «Итэлма», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО НИИТМ, Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления, Альянс RISC-V, Консорциум «Доверенные и экстремальные электронные системы» (НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС»), ООО «Остек-ЭК», ООО «ПЛАНАР». Партнер воды – АО «Сигналтек». Партнер детской программы – НИУ МИЭТ. Партнер сувенирной продукции – INWAVE. Генеральный информационный партнер – АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА», Генеральное информационное агентство «ТАСС». Оператор Форума – Агентство деловых коммуникаций «ПрофКонференции».
Подписывайтесь на официальный телеграм-канал форума «Микроэлектроника» и социальную сеть «В контакте»


 Вернуться назад
Вернуться назад